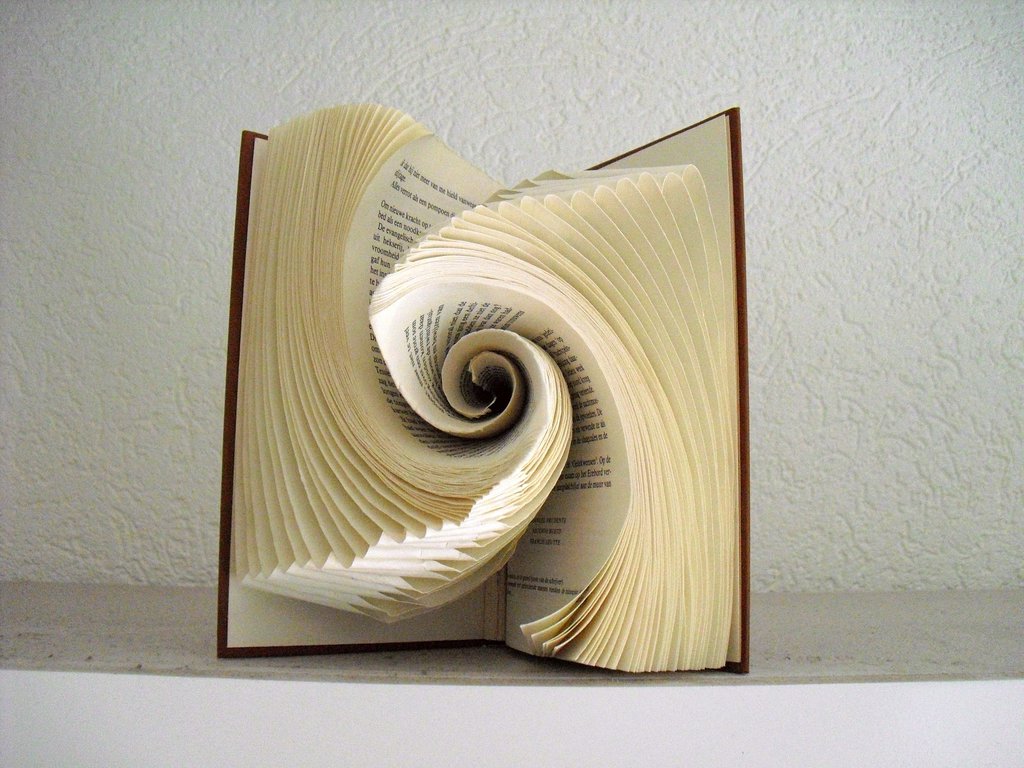ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ
Литературная Россия сложна и многообразна – раскалённое столичное бурление уравновешивается тихими провинциальными гаванями, поэтические и прозаические корабли которой красотою оснастки превосходят столичное производство; бурная игра метрополии в литературный и премиальный процессы, долетает до российских весей разве что в форме уродливых брызг, всё равно вызывающих зависть у обойдённых – а таковых, разумеется, большинство.
Карта литературной России причудлива, как наша современная жизнь, в какой старики и дети – корни и побеги естественного дерева жизни – точно не принимаются в расчёт; а известность любого гаера из мира шоу-бизнеса многократно превосходит известность любого учёного, или поэта. Карта эта пестрит белыми пятнами – вовсе не замечаемыми из игривых метрополий, игнорируемыми тусовками обеих столиц; между тем содержательность этих белых пятен гораздо выше производимого в мегаполисах – и оттого, что соблазнов меньше, и воздух не так пропах деньгами, и от более чистого, незамутнённого представления о реальности, ещё сохранённого жителями провинции.
Но Россия нынешняя, кажется, вовсе не замечает пёстрого бурления России литературной, вся деятельность которой, как творчество средневекового алхимика было ограничено его лабораторией, ограничена ею самой – нет у нас широко известных авторов, кроме сочинителей детективов, нету!
Не верите?
Спросите сто людей подряд на улице знают ли они того, или иного превозносимого тусовкой писателя, или поэта (не говоря о провинциальных авторах) – и убедитесь: не знает никто.
Либо – несколько человек из ста, что погоды не делает.
(Только не проводите подобный опрос около ЦДЛ!).
Почему же Россия, всегда бывшая логоцентричной, эту логоцентричность отвергла?
Одного ответа, разумеется, нет и быть не может, но веер их будет окрашен траурными тонами: тут и бесконечная, бурливая борьба за выживания, не оставляющая времени для глубокого чтения, и, отчасти, вина самих литераторов, слишком увлёкшихся всевозможными словесными играми и выкрутасами, и потеря доверия к слову – ибо говорят все, и говорится всего столько, что в потоке оном можно утонуть; и утрата самими писателями ощущения служения, без которого литература превращается в пустые игрища…
Ответов много – нет одного, увы: совпадёт ли когда-нибудь жизнь литературной России с жизнью просто России.
ВОРОВСКОЙ СЛЕНГ И АДЕКВАТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА
Критик N., отвечая критику Z., терзавшему в статье поэтессу C., пишет: Ты наехал(!) на литератора с сильной крышей(!)…
Всё нормально.
Осталось выяснить, где мы находимся – на базаре? В воровской малине? На сходняке авторитетов?
Ибо сленг – оттуда.
Сленг – адское понижение языка, превращение его играющих, смысловых высот в чёрные низины, предложение всем опуститься – туда, где простота хуже воровства.
Сленг естественен, увы, — у каждой более-менее многочисленной группы будет свой язык, но воровской сленг, так мощно, так отвратительно грязно заполнивший нашу жизнь – худший вариант языкового упрощения.
Допуская его и в будничную речь, человек опускается до зверино-пещерного, нагло-агрессивного уровня, а уж когда феня попадает в стихию литературного языка, деформация последнего чревата…
Слишком чревата, ибо умное высказывание заменяется грубым и плоским, пусть содержательно верным, — но тяжёлый, как висмут, окрас этих слов, нечто изменяет в сознанье читающего, точно утверждая новый языковой канон.
Псевдо-канон, конечно.
Ибо литература для того и существует, чтобы поднимать читающего вверх, настраивая душу на парение – а не на скитания в грязных низинах, и если происходит обратное, литература перестаёт быть собой.
Воровской сленг – колоритный сам по себе; великолепно его использовал в ряде стихотворение, например, И. Сельвинский; но это – нечто вроде экзотического яства, которое не должно становиться повседневным питанием.
Когда оный речевой пласт проявляется повсюду – и в речи политиков, и в бытовых обсуждениях, и в литературе, мы, незаметно для себя, допускаем искажение собственных сознаний.
А с искажённым сознанием нельзя адекватно воспринимать мир.
ЛИТЕРАТУРА И СОЦИУМ
Жизнь социума многообразна, и, если с внешней стороны, основу её составляют деньги, то взгляд более глубокий откроет подземные течения и представит гудение всё тех же извечных человеческих руд.
…ибо мальчишка, стянувший у родителей купюру, будет мучиться терниями предстоящего наказания с накалом Раскольникова, переживающего идею свою и воплощение её, как боль – как восхождение на колокольню боли. Впрочем – будет ли сегодня? Не есть ли нагромождение теперешнего социума явление уникальное: в том смысле, что утверждение Канта: Две вещи потрясают нас – звёздное небо над нами и нравственный закон в нас — более не работает? И не есть ли современный социум доказательство того, что совесть всего лишь социо-культурный мем, и не более?
С внешней стороны – да, ибо гонка за выживание, давящая власть денег, тотальная несправедливость искажают людей, превращая их в карикатуры, но – наличествует и другая сторона – потаённая, сокровенная, более важная, нежели очевидная. И, пребывая на ней, подросток, да и взрослый по-прежнему глядят в звёздное небо, испытывая таинственный трепет, и мучаются вибрацией душевных струн, сталкиваясь с несправедливостью.
И тогда на сцену выходит литература – королева с бесчисленными благородными вассалами.
Литература не популярна?
Без сомнения.
Но невозможно статистически учесть сколько стихотворений прочитывается в одинокой человеческой ночи, и сколько раз люди обращаются к классике – пусть фрагментарно, обрывочно – ища ситуации, схожие со своими, равно ответы – или выходы из тупиков.
Литература, будучи не менее древней, чем государство, не обладает его жестокостью, предлагая различные решения вопросов, помимо насилия, всегда являющегося единственным надёжным государственным инструментом.
Человек подобен губке – и не законы же, или циркуляры разных госструктур впитывать ему…
Будучи одним из лучших проявлений социума, литература – мерно, по чуть-чуть, с существенной световой составляющей – меняет человека.
Очень медленно?
Увы.
Но другие явления меняют его ещё медленнее.
МОЩЬ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА
Леонид Леонов шествовал по ступеням века, творя свой собственный миф.
Языковая мощь, проявившаяся уже в ранних рассказах и повестях, организовывала каждую страницу, каждый абзац даже, как каменный спуск в глубину яви – яви, более сложной, чем лаборатория алхимика со всей её аурой, и при этом включающей именно алхимические поиски правды – если не окончательной истины.
…ибо герметическая алхимия подразумевает не работу с различными природными материалами, но работу над собственной душой, с постепенным устранением из неё всего негативного, ради выплавления философского камня: драгоценного цветка собственной души.
Леонид Леонов мог бы стать своеобразным поэтом – блестящая игра в графоманию в «Записках А. П. Ковякина» свидетельствует о таковых его возможностях, но в какие стихи (если только в эпос!) можно вложить было всю каменную, золотую, стальную, страшную, благородную оснастку ХХ века?
Тут необходима была проза.
И – зазвучал волшебный леоновский голос.
Первая часть «Барсуков» — может быть из лучшего, что было написано в первой трети века: густота и пластика текста столь велики, что каждая фраза оживает, вспыхивая необычном фонарём смысла.
Галерея образов выстраивается естественно, и глядят на нас старинные фотографии: фотографии людей, которых больше не произведёт природа, нет-нет…
Собственно, на зарядской части «Барсуков» следовало бы остановиться, ибо последующие две некоей искривлённой переогромленностью несколько напоминают бред, хотя стилистически не уступают первой.
Бред?
Ну что же – в ХХ веке было много бредового.
Переогромленность вообще свойственна Леонову – и как буйство языковой живописи, избыточность красок, когда иной абзац из «Дороги на океан», или «Вора» тянет на самостоятельный рассказ; и как глобальное выстраивание своей пирамиды – работа, отлившаяся в огромный финальный роман, в каком есть нечто и от органного звучания, и от глубины древле-русского скита.
Скитская жизнь, данная несколько шаржирована в «Соти», была выпуклым сгустком стремления к вере – какую в ХХ веке едва ли обретёшь…
Излом леоновской трагедии обозначался многажды в большинстве романов, кроме блистательного «Вора» и первой части «Барсуков» — излом заключался в контрасте между советизмом, необходимой долей сервильности и жаждой огромного эпоса, излом и приводил к срывам, вроде многих провальных глав «Русского леса», не убавляя языковой мощи.
О! она никогда не изменяла Леонову, или он ей – даже в статьях мускульное напряжение фразы, необыкновенное языковое чувство также сильны, как в художественной прозе.
Художественность – как оправдание жизни, ибо без неё всё гаснет серой хроникой заунывных будней.
Но – помимо художественности нужна и важна боль – линия проколотого нерва, ведомая Леоновым от Достоевского (и цветовая гамма у него часто серо-бело-чёрная, как у Фёдора Михайловича); эта боль – за униженных и оскорблённых, количество которых у ХХ веке увеличилось в геометрической прогрессии.
И – без оной, нету литературы, особенно русской.
Мощь, гущь, дебрь – типично леоновское, очень русское, отчасти запутанное, проявляемое системой образов, сложных, как сумма зеркал, как принцип двоения, воплощённый Фирсовым и его двойниками из «Вора»; сказовая мощь, могутное повествование о гуще и дебрях ХХ столетия организовали феноменальный свет прозы Леониды Леонова, которая, не пользуясь популярностью в современном мире, продолжает исподволь работать на правду и высоту.
«ПЕТЕРБУРГ» АНДРЕЯ БЕЛОГО
Красное домино – в разрывах движения – истово мечется по петербургским проулкам: это домино-предчувствие, домино-страх, домино, сконцентрировавшее в себе излом грядущего: поход за правдой всегда оборачивается тоннами крови.
…а в трактире чуйка басит:
-Чаво бы ни то…
И половой, подвижней ртути, мечется, стремясь угодить.
Громадой вырисовываются петербургские пейзажи: великолепный медный всадник прокалывает главою туманы, мрачно-величественный Исаакий подавляет фантазию, роскошные особняки хранят богатство и таинственность жизни.
И – карета уносится в волглую перспективу.
И – мелькает домино, мчит по страницам романа – может быть, первого великого романа ХХ века…
О, эти речевые перебивы прозы Андрей Белого! Взрыв в каждой фразе! Мучительные дребезжания пустот и страхов! Тремоло и синкопы, музыкальность оформления любой страницы…
Но это – новая музыка, адекватная, если только, Стравинскому; музыка мучительная, пред-вестная.
Лесенка фраз – как лестница строчек: почему Андрей Белый не написал роман в стихах?
Посчитал, что стихом не передать всего напряжения-натяжения времени?
Проза рвётся, снова возникает пейзажами и характерами, и чьи-то жуткие глаза глядят вам прямо в душу, прожигая, как могут глаза старинных икон.
Будет ли взрыв?
Их будет много – ибо всё начнётся с Петербурга, ибо грохнет именно в нём, и круги разойдутся по всей стране.
Аблеухов в тёплой роскоши домашнего кабинета перебирает бумаги, размышляя о Российской империи.
Знает ли он, что дикому её, роскошному цветению уже приходит конец?
Тремоло, синкопы…
Иная фраза скачет на одной ножке – как расшалившийся Коленька.
Домино мечется по проулкам, выбегает на Дворцовую площадь, расплёскивает красный цвет.
ХХ век начат.
Итог ему – с чётким анализом, беспристрастный и мудрый – не подведён, увы.
Но высится громада первого значительного романа века.