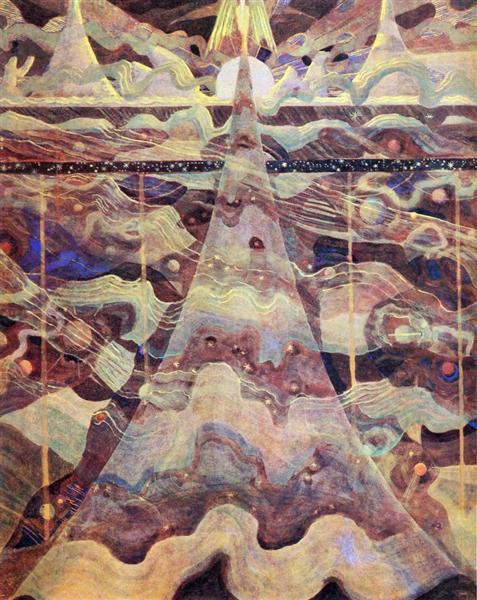Конструкция небес, где сферы
В иные входят…
Где алмаз,
Играя, озарит пещеры,
Непредставимые для нас.
Планеты мыслящих кристаллов,
И лабиринты звёздных снов.
Сиянье ангельских опалов
Идёт солнечных основ.
Мелькающее лентой время,
Часы архангела работ.
Рим отражён в небесном Риме,
Какой составлен из высот.
Конструкция небес настолько
Сложна, насколько слабый мозг,
Который жизни грезя солью,
К роскошным тайнам строит мост.
* * *
Ночь выбирают поэты,
Ночь выбирают тираны.
Мистика власти и света
Сердцу наносит раны.
Ночь – бархатистое время.
Тайна прописана мощно.
Не одинакова в Риме,
И в Подмосковье – точно.
Ночь выбирает адептов,
Собственной силой полная.
А расстановка акцентов —
Наших ошибок копия.
* * *
Как под ручкою блеснут слова
Бликами и лоскутками влаги!
И течёт река, всегда права,
Вечностью крепя судьбу бумаги,
Кою покрывают письмена,
И неважно то, что жизнь одна.
* * *
Мальтийцы, масоны,
Масоны, мальтийцы.
Безвестные силы,
Различные лица.
Есть власть вот такая,
А может быть, нету?
Масоны, мальтийцы
Близки ли ко свету?
Действительность наша
Не то, чтобы очень.
Масонов, мальтийцев
Пугает ли осень?
Иль, может, в расцвете? –
Масоны, мальтийцы.
Безвестные силы,
Различные лица.
* * *
Функционирующий ликвор
Процесс мышления даёт,
Не понятый собою, либо
Другими человек живёт.
С начинкой тело до последней
Понятно йоты ли? О нет.
И – духом замерший, столь бедный,
Над бездной смысла ищет свет
Герой, сопоставляя ликвор
С блистанием крестильных вод,
И зная: не всегда есть выбор,
Скорее – всё наоборот.
ГРУСТЬ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
(стихотворение в прозе)
Тогда в кинотеатрах Советского Союза запустили впервые редкие иностранные фильмы, в том числе в «Космосе», возле которого жил.
Стояла ранняя осень, но погода не портилась, и дни были высоки, прозрачны, и точно отмечены перламутровой грустью – когда восемнадцать лет, и не знаешь, что будет дальше, никак не представляешь будущего…
Со службы, на которую ходил: в библиотеку, можно было сорваться в середине дня, работы толком не было, и, отстояв очередь, купить билет на «Красную пустыню»; и в обширной, тёмной яме кинозала ощутить затерянность в человечестве – и сопричастность другому миру.
Пустыня входила в сознанье – извечным одиночеством, жаждой творчества, фантастическими образами, теснившимися в голове, не находящими выхода.
Великолепно выстроенный фильм Антониони отливал грустью – цветной, как осень; и происходящее на экране становилось и твоей жизнью – такой маленькой, такой непонятной.
Выходить из кинозала было, — как погружаться в двойное одиночество, и, бредя аллеей бульвара, хотелось сесть на скамейку, глядеть на листья, дать свободу грустно текущим облакам мысли, но надо было возвращаться на службу, к скучным обязанностям, к житейской неопределённости.
Бульвар, которым шёл, тоже казался изъятым из недр фильм, и был он устроен с кинематографической точностью красивой ленты; а глыба института, в каком помещалась библиотека, врезалась в синеющие небеса.
Очень много лет спустя, вспоминая то время, думаешь, что нечто не успел в нём расшифровать, как смог сохранить только обрывочные кадры советской жизни, не представляя, что она завершится вот-вот, не зная, как и что будешь писать, во что выльются образы, отчасти бременившее сознанье; не предполагая, скольких людей, игравших в жизни твоей немалую роль, придётся похоронить, не зная ничего о будущем, но чувствую тонкую-тонкую грусть восемнадцати лет, начала жизни.
ТОЛЬКО ТВОИ ВОСПОМИНАНИЯ
(стихотворение в прозе)
То, что тропинка на огромном пространстве больничного комплекса идёт между моргом и родильным отделением, узнал уже после, а тогда, сидя в приёмном покое, ожидая зашедшую в отделение жену, глядя то в окно, то в пол, силился представить, каким же будет малыш.
Пара, стоявшая у окна, казалась странной: молодой любовник? Муж? Пожилая, властная женщина…
Ещё один отец – простоватый мужичок, из работяг явно, сидел с маленьким сынком у стены, и последней пришла молодая деваха, шумно устроившаяся на стуле, бросившая пёструю большую сумку на пол.
Ещё одну роженицу привезли на скорой, и прошла она без очереди.
За окном плыла осень – ранняя, сентябрьская, не отличимая от лета; он выходил курить, о чём-то болтал с шумным дядькой, сопровождавшим невестку вместе с сыном; и когда вернулся, жена вышла, сказала:
-Через два дня.
Распрощались.
Он прошёл территорию больницы насквозь, он вышел в город, двигался вдоль ограды, к трамваю, всё думая, каким будет малыш; и пока город тёк за окнами трамвая, отвечал на эсэмэски жены, писавшей, как устроилась, что делают…
Быстро пролетело.
Всё мелькает очень быстро, но четырёхлетний малыш, лихо скатывающийся в трубу детской горки, не знает об этом, как не будет, словно все, помнить первых дней своего существования.
Много воспоминаний, принадлежащих только тебе – и никогда ни у кого не будет иначе.
* * *
Щедро данная сирень
Видится пустой с похмелья.
На вчерашнее веселье
Данность надвигает тень.
Тени у куста, увы,
Серые, в пандан сознанью.
Приближают к пониманью
Яви бытия узлы.
Таковых в похмельный день
Не заметишь, окаянный.
Мелких мыслей дребедень
Будет ли кому желанной?
Так и будешь жить-тужить.
Многое необъяснимо.
Просто день проходит мимо,
Свет ведь надо заслужить.
* * *
Когда поедешь на вокзал
Встречать жену и малыша,
Всё будет так, как ожидал,
Тем ожиданием дыша.
Так, бросится к тебе малыш,
Его легко подхватишь ты,
Как будто вмиг осуществишь
Свои мечты.
Вокзал шумит, и темнота
Июня вовсе не страшна.
И столь обыденность проста,
Сколь ей присуща глубина.
* * *
Он – Бог? А может быть, Они?
Идея мирозданья слишком
Громоздка, больно наши дни
Ничтожны, коль сравнить их с ликом,
Который не сравнить с лицом.
Нам храмов неба не представить.
Река и ночь. Плеснёт ли сом?
Конкретность очевидна яви.
Он – Бог? А может быть, Они?
Без иерархий невозможно.
Красивыми бывают пни,
С деревьями сравнить их сложно.
В церквях обряды и порок
Корыстолюбья, равнодушья.
Туда не проникает Бог,
Где тьме всё истово послушно.
Есть Он, идея мира, мир,
Конкретика привычной яви,
Цветущий во дворе жасмин,
Моментов драгоценных яблоки…
* * *
Хотели Игорюшку, получилась Танюшка,
Здорово, пусть растёт пузырь!
Так жене написал, на войну ушёл муж и
Не вернулся – смерти морок познав, узость её, или ширь.
Это бабушка мне рассказывала. А Танюшка –
Тётя Таня моя, девочкой не представить, нет.
Умерли так давно… От смерти довольно душно:
Будто сужает данный нам свет.
Строчка письма, которого никогда не видел,
Как погибшего на войне деда не мог я знать.
Между строчкой и памятью нынешней выжжен
Пласт судеб и жизней, и коды времени не понять.
Вот Таня сидит на даче, под старой грушей,
Шутим, смеёмся, бабушка пироги несёт.
И пожар войны так давно потушен –
Ибо вспомнился восемьдесят какой-то советский год.
Мелькают кадры сложнейшего фильма.
Под 50 вспоминаю много их – ярких, добрых, цветных.
Но жизни понятней не становятся мистика, физика,
Может, яснее они из океана мёртвых,
Чем с континентов живых…
ПАМЯТИ ПАВЛА БЕЛИЦКОГО
Античный блеск, Эллады храмы
Необходимы, как подъём
Из современности, чьи ямы
Рыл прагматизм, суров при том.
Не вырваться поэту всё же,
И остаётся алкоголь –
На время икс цветные может
Пейзажи дать, унявши боль.
Боль возвращается к поэту,
Последний сгустками её
Стремится к свету, только к свету,
Презрев телесное житьё.
Чтоб строки золотом остались,
В самосожжения режим
Поэты испокон включались.
И мир был равнодушен к ним.
Неравнодушно только время,
Что сохраняет имена,
Даря поэтам воскресенье
В стихах, лелея письмена.