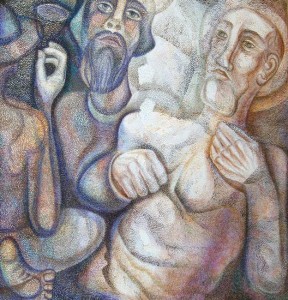***
Природа с утра хмурилась. Небо затянуло плотным, беспросветным серо-синим покрывалом туч. Но, не смотря на пасмурную погоду, было тепло. Весна наступала уверенно, с каждым днем поднимая столбик термометра на несколько градусов. В воздухе, почти не нарушаемом движением ветра, были разлиты запахи тающего снега, пробуждающейся, освобождаемой от ледяного плена земли. Природа замерла в ожидании первого дождя. И вероятность того, что он прольется уже сегодня, была достаточно велика. Пасмурный сумрак был пронизан призрачным синим светом, создающим ощущение нереальности и потустороннести. Всё вместе – освещение, запахи, долгожданное тепло поднимало в душе светлую ностальгическую грусть и задумчивую меланхолию. В такую погоду хочется плакать облегченно и без повода. Хочется выпустить из себя все плохое, все наносное, все суетное и надоевшее; весь нажитый за долгие годы негатив, всю тяжесть опыта и воспоминаний.
В такую погоду хорошо думается. Татьяна Трофимовна Пахомова, шестидесятилетняя уборщица, все утро размышляла о прожитых годах. Вспоминала различные мелочи и подробности. Прокручивала свою судьбу, как виденный неоднажды кинофильм, задерживая полюбившиеся моменты, вглядываясь в любимые, родные лица. Детство, юность, молодость, зрелость. Калейдоскоп событий, мечтаний, замыслов, надежд. Огромное количество прожитых честно и, в целом правильно, но ужасно обыденно лет.
Вспомнила в тысячный, наверное, уже раз Лешку (без слез — слезы по Лешке уже давно выплаканы все). Всю его коротенькую двадцатилетнюю жизнь, от первой улыбки и взгляда, до четырех кубов жирной черной грязи осеннего кладбища, так беспощадно их разделивших. В тысячный, наверное, раз погладила, мысленно, его вихрастую голову, прошептав про себя: «Скоро уже, сынка. Скоро свидимся. Скучаю по тебе очень, родной. Да все никак не приберет меня Бог, все зачем-то держит здесь»…
Не глядя, задвинула хлипкий засов на калитке. И тихонько пошла по дороге к станции электрички – крепкая еще, но уже безмерно уставшая и во всем разочаровавшаяся женщина, с увядшей, но по-прежнему бросающейся в глаза красотой, с грацией и плавностью и спокойным достоинством походки и движений. На полпути ее подобрал сосед Ерофеич, бодрый жизнерадостный старикан, едущий на своей древней разболтанной колымаге в город.
***
В салоне было накурено, жарко и воняло бензином и «Шипром». Татьяна приоткрыла окошко и облокотилась о дверцу, так, чтобы сквозняк обдувал ей лицо. Тепло, приветливо, но с отсутствующим видом поприветствовала соседа:
— Привет, старый. Попаду я с тобой на работу сегодня или опять сломаемся, недоехав?
Сосед вкусно и залихватски хрустнул разболтанной коробкой передач и рывком тронул с места.
-Привет, мать. Попадем, куда денемся… Домчимся быстрее электрички. Если никто не помешает. А я смотрю — ты идешь. А мне как раз на рынок приспичило. Все, думаю, с компанией повеселей. Ты, никак, на работу?
— Да на нее, родимую. — Женщина, вздохнув, откинулась на спинку кресла.
— Не пойму тебя, вот убей бог, — Ерофич помотал, задумчиво головой. – Пенсию ты наработала уже. Горбатиться за копейки, ездить каждый день туды-сюды на електричке по полчаса… Вот надо оно тебе? Не девчонка ведь уже. Сидела б дома, смотрела б «Пусть Говорят», хозяйничала бы по-мелочи…
— Эко ты хватил… Хозяйничать мне некому. То есть, не для кого. Пенсией моей нищенской — только людей смешить. Да и сидеть дома — тоже радости… Ходить по пустой хате из угла в угол, да с геранью на окнах разговаривать? А на работе – всяко среди людей. И дни не так тянутся и, опять же — «обчество».
— И то – правда, — с готовностью согласился собеседник. И пенсия наша — подачка жалкая. За то мы работали, ударники труда, пятилетки за три года выполняли. Страну поднимали, лозунги кричали, план давали, себя не щадя, ради идеи. Чтоб за пять минут обосраться, все порастерять и усесться на жопу в разворованной стране – без идеалов, с пустыми карманами, с ценами запредельными на все… Спасибо, бля, политикам-пидорам за нашу обеспеченную старость, йити йиху в рот…
И понес, понес привычно высказывать наболевшее. О политике и о проблемах простого люда. Соседка, неоднократно слышавшая изрекаемые поднадоевшие истины задумчиво смотрела в окно, отрешившись от беседы; изредка лишь, из вежливости кивая головой.
***
Ленька ужасно замерз. Утром, до пересменки дежурного персонала (а главное до милицейского обхода) выйдя на перрон к первому утреннему электропоезду, он озяб со сна и до сих пор не мог согреться. На улице прохлада и сырость моментально разбудили голод и жалость к себе. Было бы здорово пойти домой, в тепло. Хоть даже и к вечно пьяной матери. Поспать на кровати нормально, лежа. А не вполглаза, скрючившись на жестком вокзальном сиденьи. Хорошо хоть через станцию проходили и пассажирские поезда и на ночь ее не закрывали. На улице-то спать попросту нереально. А тут хоть какое-то помещение и тепло от выдохов других бедолаг, застрявших до утра в зале ожидания.
Вчера какой-то доброхот долго смотрел на него. Ленька уже насторожился, почуяв неладное. Хотел тихонько скрыться. Но дядька не стал к нему лезть. Просто мимоходом сунул в руки стольник и молча, сочувственно потрепал по голове. И сразу же ушел, так и не сказав ни слова. Ленька так и не решился поблагодарить его. Но на эти деньги он вчера поужинал. И выпил несколько стаканов горячего чая. Осталось на чай и на сегодня. А если ЭТИ еще у него дома, тогда вернувшись сюда ночевать, он купит на остатки еще и поесть. Хороший дядька. Если бы не он…
Несколько раз — накануне вечером и сегодня утром — он ходил домой, проверял, не ушли ли вчерашние нежеланные, страшные незнакомцы. На цыпочках подкрадывался к своей двери на лестничной площадке. Прикладывал к ней чуткое ухо, готовый в любую секунду дать стрекача. И в очередной раз слышал насмешливые мужские голоса, злой их хохот и довольный, угодливый, подлизывающийся пьяненький голосок своей матери-предательницы. А еще ее стоны, как от боли и сразу же (почему-то) веселый ободряющий смех. Тогда Ленька стискивал от обиды и отвращения до скрипа зубы, разворачивался и бросался бежать прочь. Обратно, в присмотренный укромный уголок на вокзале.
Идти некуда. Пока мамка пила еще не так сильно, у парня были еще приятели. Но когда она стала пить постоянно (а это где-то с пару лет — тогда мальчишке только исполнилось десять), Ленька превратился в отверженного, презираемого сверстниками парию. Его дразнили в школе и на улице — замарашкой, вонючкой, заморышем. Правильно — он ходил в заношенной, непростиранной толком одежде, с въевшимся в нее запахом перегара, табачного дыма и подгоревшей еды. Еще он постоянно находился в каком-то трансе, думая, как бы поступили в его случае герои любимых американских боевиков. Леня плохо учился, много пропускал. Чурался вчерашних товарищей и стыдился себя и родителей. Сидевшего в тюрьме отца и спивающуюся мать. Постепенно у него не осталось никого, к кому он мог бы обратиться за помощью. Года два назад он мог бы напроситься к кому-нибудь в гости, случись такая ситуация, как сейчас. Но тогда такое просто бы и не произошло. А теперь он никому не нужен, не знает куда пойти и как быть дальше. Ему трясет от холода, он напуган; ему хочется, чтобы все то, что с ним происходит, наконец, хоть как-нибудь закончилось. К глазам постоянно подступают горячие, злые слезы и, чтобы не расклеиться окончательно, мальчишка считает про себя до ста и обратно – от ста к единице.
***
Вчера утром мать ввалилась в дом с двумя незнакомыми молодыми мужиками. Им было где-то по двадцать пять – тридцать лет, оба крепкие, уверенные в себе; с короткими (почти под ноль) стрижками, с наглыми глазами, прокуренными голосами и синими от татуировок кистями рук. В их движениях, с виду ленивых и расслабленных видна была скрытая сила и ловкость. Вся компания была уже навеселе. От шума в их единственной на двоих с матерью комнате Ленька проснулся и, быстро одевшись, заспанно и недоуменно изучал гостей.
Мать неловко и пьяно развалилась на диване, за придвинутым к нему журнальным столиком. Пришедшие сели с двух сторон от нее. Один из них прикурил сигарету и вставил мамке в густо и неровно накрашенные губы. Затем обнял ее, положив лапу в наколках ей на попу. Второй дядька по-хозяйски расставлял на столе вынимаемую закусь и бутылки со спиртным. Ненадолго оторвавшись, бросил сквозь зубы Леньке:
— Эй, малой, чего застыл? Метнись живо, стаканы притарань. Гулять будем…
Мальчик послушно принес с кухни стаканы. И забился в уголок, поджав под подбородок коленки. Происходившее в квартире, а также пришедшие дядьки почему-то сильно испугали его. Сердце билось где-то в горле, пересохло во рту.
Буквально через час все уже были довольно пьяные. У матери начал слегка заплетаться язык. Мужики смеялись каким-то своим непонятным шуткам. Они разговаривали на жаргоне: речь их была малопонятна, но вызывала у Леньки гадливость и еще больший страх. Тот, что был пониже, посветлей и поплечистей обратился к своему высокому чернявому товарищу:
— А хозяйка-то уже все, кажись. В кондиции уже. Счас нам любовь будет, кажись, слышь, Санек?
Тут же обратился уже к женщине:
-Чо, подруга, давай, сблочивай хламиду свою, в натуре, я уже весь в нетерпении.
Детина придвинулся к Ленькиной матери и начал расстегивать ее кофточку. Та не сопротивлялась. Даже более того – она опустила руки на штаны страшных мужиков и, довольная, мяла и массировала им джинсовые ширинки. Лицо ее было пустым и бездумным, она облизывала постоянно губы и как-то странно посмеивалась – неестественно, незнакомо, пугающе. Низкорослый парень расстегнул до конца кофточку и мял через лифчик груди. Высокий положил руку на колено матери и постепенно засовывал ее глубже – под юбку.
Происходящее было настолько неправильным и невозможным, что у Леньки помутилось в сознании. Страх в нем заставил мальчишку закричать на пришельцев высоким, срывающимся от рыданий голосом:
-Прекратите сейчас же! Перестаньте трогать маму! Уходите отсюда!
Тот дядька, что пониже, нехотя оторвался от своего занятия.
— О, смотри-ка — малявка проснулась! А чо, Санек (он перевел взгляд на молчаливого товарища), может, заодно и его оформим? Я таких маленьких еще ни разу не имел, даже интересно…
Мать тоже на секунду выплыла из своего нового, невиданного Ленькой состояния:
— Вот еще, придумали! Меня мало что-ли? Отстаньте от малого! – И сфокусировав на Леньке взгляд, в котором кроме пьяного удовольствия вдруг появилось еще какое-то непонятное чувство (стыд? страх?), скомандовала мальчику:
-Так, Лень, иди-ка быстро на улицу погуляй, развейся. Нам с дядей Сашей и дядей Славой поговорить надо серьезно. Я потом тебя позову, когда мы закончим (Мужики довольно заржали, показывая золотые зубы). Добавила совсем неслышно, почти про себя:
— «А то они и правда тебя машкой сделают еще»…
Мальчишка, не помня себя от паники и отчаяния, опрометью бросился из квартиры вон. И с тех пор он не был дома.
Сначала он бродил, не чувствуя сырости и прохлады вокруг соседствующего с домом детского сада, пытаясь справиться с бушевавшими в нем противоречиями. Он понимал, интуитивно понимал, что что-то неправильное и запретное происходило сейчас там, дома. Почему мать прогнала его, а не этих страшных дядек? Почему даже побаиваясь их (а было видно, что она их опасается), мама с такой готовностью подчинялась им? Почему сама трогала их за стыдные места? И почему, несмотря ни на что у нее был такой довольный вид? Не находя ответов, Ленька бродил по улице. Поглядывал на свой подъезд, ожидая, что из него выйдут те, из-за кого он не мог попасть домой.
Постепенно уличная свежесть охладила его пылающее лицо, остудила тело под легкой курточкой. Ленька стал замерзать. Тогда он пошел на вокзал. Там можно было прийти в себя, отвлечься и потерпеть до ухода ЭТИХ. Дождаться момента, когда можно будет вернуться домой.
Вокзал находился рядом, в конце улицы, на которой они с матерью жили. Ленька был там частым гостем, многие его знали здесь и не стали бы гнать отсюда. Когда-то давно мать работала там кассиршей, пока ее не выгнали за пьянку. Частенько он приходил к ней на работу. А еще довольно часто они с пацанами играли на привокзальной площадке в мяч. Он мог вполне спокойно отсидеться здесь. А еще рядом была столовка и там за несколько рублей можно будет купить стакан-другой чаю, если будет совсем уж холодно…
***
Пахомова заметила мальчишку еще вчера. Ее поразил его потерянный, несчастный вид, запавшие глаза с тенями под ними, бледное лицо и спутанные волосы. Он был не по сезону одет в неновую, чиненную одежду. Но при этом не походил на беспризорника. Речь его была достаточно вежливой и культурной. Парнишка несколько раз заходил в бывшую столовую (теперь громко называвшуюся кафе-бар) в которой работала Татьяна, покупал чай без сахара и долго сидел с ним за крайним столиком в уголочке. Потом выходил, и видно было в большие витринные стекла, как он идет через площадь к вокзалу.
— Людкин сын,- прокомментировала буфетчица Зина, — Алкашки с четвертого дома. Бедная сиротина при живых родителях. Мишка, мужик ейный, Людкин, в тюрягу сел на десять годов. Сама же можа сказать и подсобила. Стравила его с бывшим своим хахалем для смеху. Мишка пьяный был и поножовщина у них из-за нее произошла. Мишка подрезал этого, бывшего. Вот ему с отягчающими и накрутили срок. А Людка, дрянь такая, как одна осталась, да еще и с сыном малым на руках – так и забухала. Сейчас ни дня без пьянки. А малой – бесхозный.
Зина была вездесущей и всезнающей местной сплетницей. Информация у нее была проверенная и точная, к ней даже ходили участковые за советом и информацией. Татьяна слушала коллегу и смотрела в окно на бредущего, не разбирая дороги, мальчика. И щемило в груди от зарождающейся и крепнущей жалости к бродяжке.
А сегодня вечером она покормила его. Хоть он и сопротивлялся и отказывался есть за чужой счет, краснел от стыда и смущения. Наложила ему огромную тарелку каши с подливкой и наделала бутербродов. Видно было, как проголодался бедняга – с такой жадностью набросился он на еду. Бутерброды, правда, завернул в салфетку и спрятал в карман. Тихо поблагодарил ее и Зину и был таков. А уборщица Пахомова, бывший педагог, потеряла покой. Не шел из мыслей этот застенчивый тихий мальчик, так похожий на ее Лешку в детстве.
А уже перед закрытием их общепита малыш зашел еще раз и опять заказал чай, выгребая из кармана грязные, липкие монетки. Татьяна Трофимовна рискнула подсесть и заговорить с ребенком.
-Привет еще раз, — сказала женщина. Давай знакомиться что — ли. Меня тетя Таня звать. Скажи у тебя все в порядке дома? Может, я могу помочь тебе как-нибудь?
Мальчик отвернулся от нее и, глядя в окно, сказал:
— Как вы мне поможете?.. У меня мамка пьет. А вчера привела каких-то друзей. Они злые и опасные. Бандиты. И я теперь боюсь домой идти.
Голос мальчонки дрожал и слабел с каждым словом. Стало заметно, как давно он сдерживается, стараясь не показать терзающие его беспокойство, и горечь, и печаль.
— Так ты что это — дома не ночуешь? Где же ты тогда?..
-Да здесь на вокзале. Только не говорите никому, пожалуйста…
— Ну как же можно,- всплеснула руками женщина. – Мать там устроила вертеп — а ребенок на улице живет! Возмутительно! Пойдем со мной в милицию, пусть они наведут порядок, в конце концов!
Она еле-еле успела удержать вскинувшегося мальчишку. Тот вырывался из ее рук и сдавленно выкрикивал:
-Не надо никакой милиции! Не надо ничего! Они ничего не смогут помочь! А те дядьки вернутся потом и плохо сделают! А мать накажут опять, а меня отдадут в приют. Не надо!
— Тихо, тихо, — женщина успокаивающе сжала пацаненка в объятиях. Прижала к груди его голову большой, уродливой рукой с вздувшимися суставами и синими набухшими венами. Тихим, проникновенным шепотом утешающе проговорила ему на ухо:
— Не хочешь в милицию — не надо. Но где-то же тебе надо ночевать? Поехали пока ко мне? А там, глядишь, и придумаем чего-нибудь. Утро-то вечера мудренее…
Ленька успокоился и перестал вырываться. С надеждой поглядел снизу-вверх на ласковую пожилую женщину.
— А вы правда не сдадите меня или маму в милицию?
-Правда. Сами разберемся, как-нибудь. Но спать на улице я тебе не позволю.
Они уехали в пригород вечерней электричкой. В полупустом вагоне нахохлившийся, сжавшийся в комок на лавке Ленька рассказал Пахомовой историю двух предыдущих дней. Теперь, благодаря почти бессонной ночи, Ленька временами терял связь с реальностью. Все вокруг иногда начинало казаться ему какой-то недоброй, издевательской галлюцинацией. Он опустил предысторию: моральное и общественное падение матери, свои проблемы с однокашниками, непростые отношения с органами опеки и попечительства. Но и того, что он рассказал этой доброй, участливой женщине показалось Леньке достаточно. Выговорившемуся ребенку стало немного полегче. Хоть его и сотрясала подчас незаметная то ли нервная, а то ли горячечная дрожь. А вот расстроенная Пахомова пыталась скрыть свое потрясение за умиротворяющими (успокойся, милый, успокойся, разберемся во всем, выкарабкаемся, переживем) репликами. Неужели такое может происходить совсем рядом? Такое отношение к ребенку? Своему родному ребенку!
А уже у Пахомовой Ленька замолчал. Видимо сказалась незнакомая, непонятная пока еще обстановка чужого дома. Мальчишка затравленно озирался, встречаясь взглядом с застывшим прошлым в фотографиях на стенах. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Спрятался опять в уголочке, отвечал на вопросы занимающейся домашними делами женщины вежливо, но односложно. Да и сама Татьяна Трофимовна не знала о чем говорить. Она чувствовала непостижимое родство с этим юным скитальцем. Когда слова — вроде и не нужны. Но тишина давила и подчеркивала стерильность и то самое отсутствие живого тепла, от которого Пахомова ежедневно сбегала на работу, не желая отдыхать на заслуженной пенсии.
И тогда, чтобы заполнить эту напряженную тишину она стала рассказывать ему о себе. О своей обыкновенной, в общем-то, но такой непростой судьбе. О голодном детстве. О своей ответственной и нелегкой работе, о молодости и зрелости, в которых единственной отрадой были муж и сын. О сыне Лешке, сгинувшем в мясорубке неизвестно кем и зачем развязанной Чеченской войны. И о том, как вот уже, сколько лет она проклинает себя за то, что не сумела уберечь любимого ребенка от хищной лапы государства, вырвавшей его из привычной жизни и бросившей, неприспособленного ни к чему, слабого, в эту бойню. И как ей не дает покоя вопрос – сильно ли ее мальчик мучился перед смертью. Ведь он так боялся боли. Такой щупленький, замкнутый, робкий…
Поведала о том, как муж не перенес известия о гибели наследника. Как супруг быстро зачах и ушел вслед за ним, оставив ее, Татьяну, доживать свой век в одиноком, пустом доме. Среди вещей и фотографий самых любимых ее мертвецов, как в музее — в музейной же тишине и нежилом неуюте.
Женщина прервала свою монотонную исповедь, когда вдруг увидела перед собой близко-близко огромные внимательные глаза ее случайного гостя. И ощутила несмелое, утешающее прикосновение его маленькой руки к своему плечу. Тогда, словно огромная волна прорвала плотину сдерживаемого годами горя. Татьяна Трофимовна судорожно обняла ребенка и, уткнувшись в его плечо, зарыдала, громко и некрасиво сглатывая. Ленька стоически выдерживал этот натиск, замерев, осторожно гладя хозяйку по седой голове. И в этот момент Татьяна снова с особенной отчетливостью ощутила необъяснимые — доверие, близость, симпатию к этому незнакомому человечку. И одновременно — сострадание, и сочувствие его безжалостно-жестокому року.
А еще почувствовала жар, исходящий от мальчика. И пробегающую по маленькому телу, временами, дрожь. Это быстро вернуло ее в реальный мир, к необходимости действия, заботы и помощи.
— Что же это я, дура старая… Ты же горишь весь! Что ж ты молчал, милый? Как же тебя угораздило? Давай скорей в постель, под одеяло, а я сейчас молока с медом нагрею тебе. И вот, на скорее таблетку выпей…
Женщина заметалась по дому, укладывая измученного мальчишку, заливая в него горячее питье и лекарства. Через полчаса обессиленный горячкой простуды ребенок уже тихонько сопел, укрытый двумя одеялами. На двуспальной кровати Татьяны Трофимовны и ее покойного мужа он стал еще меньше ростом, еще более больным и жалким. Сама хозяйка с забытой уже целеустремленностью стирала одежду спящего парнишки, готовила наваристый, густой бульон из последнего в доме куска мяса, заваривала душистый отвар лечебных трав. От этой деловитой, но тихой суеты ее оторвал стук в дверь.
— Кого там черти несут…
— Эгей, есть дома кто? — В двери, не дожидаясь приглашения, по-свойски ввалился сосед, Ерофеич. В руках у него поблескивала маленькая бутылочка с домашней настойкой.
-Эй, Трофимовна, давай по двадцать грамм? А то моя старуха со мной не хочет – а я один ты знаешь… не умею.
Тут только сосед увидел раскинувшегося на хозяйской кровати незнакомого ребенка. Покашлял смущенно:
— Ой, да у тебя гости… Я, похоже, не ко времени пришелся…
-Да заходи уж, раз пришел. Только тихонечко, не разбуди болезного. И так намаялся голубь. Давай вот сюда, в кухню. Сейчас я живенько соберу что-нибудь поснедать, у меня тут с вечера осталось малёх…
— Да не суетись ты так. Тут всего на две рюмки. Мне для настроения, да тебе для сна.
Ерофеич аккуратно разлил в два поданных ему стаканчика жидкость. Тихонечко чокнулись, кивнули молча друг-другу, стали отпивать не торопясь, маленькими глоточками. Они частенько сиживали так вечерами. Так повелось после смерти старшего Пахомова, большого друга Ерофеича. Старик думал, что таким образом поддерживает одинокую вдову. Татьяна благосклонно принимала и соседа и соседку, если та составляла мужу компанию. Больше все равно никого достаточно близкого у нее в деревне не было.
Посчитав, что он выдержал достаточную, с точки зрения учтивости и вежливости паузу, сосед прямолинейно спросил, качнув головой в сторону комнаты со спящим Ленькой:
— Кто таков? Расскажешь?
-Да вот, найденыш. Дома беда у него. Мать бесчинствует. А он в милицию идти не хочет. Боится. Истерику закатил мне. Да и что милиция хорошего ему сделает? В детприемник отправит, разве что… Да еще и захворал он простывши. Вот я и привела к себе. Не знаю, что делать дальше…
И Пахомова рассказала историю своего (своего!) маленького постояльца. На этот раз более вдумчиво. Ища попутно лазейки и уловки для воздействия на ситуацию. Все равно с кем-то надо было поделиться, спросить совета у кого-нибудь близкого.
— Ну ты даешь, мать! – аж подпрыгнул Ерофеич. — Вот так, за здорово живешь, привела незнакомого мальца в дом? Не разобравшись? А ты знаешь, как такое вот называется? Кинденпинг, вот! Похищение ребенка! Ты подумай, что ты творишь то! Да если узнает кто…
— Ну, положим, если ты не пойдешь по деревне болтать – сразу никто и не узнает. А там, я за это время придумаю что. Пойду сама в опеку и попечительство — пусть разберутся с его мамашей, что за беспредел она вытворяет. Или пусть прав ее лишат, и на меня Леньку перепишут. Да я лично приду и в ноги упаду этой бессердечной суке, на коленях эту дрянь умолять буду, чтоб не мучила так дитё! Ну не могу я спокойно пройти мимо такого! Это все равно, что равнодушно смотреть, как на твоих глазах этого самого ребенка убивают медленно и мучительно. Пройти мимо, позволить ему на вокзале спать, побираться у тебя на виду… Да я попросту возненавижу себя, если такому дам произойти!
Татьяна разгорячилась, уже не в силах сдерживать праведную ярость. Однако сосед довольно резонно заметил:
— Так они там в опеке и дали тебе усыновить парня… — Обычно всегда добрый старик враз озлобился на всю людскую несправедливость. — Ты ж, извини за откровенность — малоимущая, одинокая и сама уже краем глаза на погост поглядываешь. Куда тебе чадо малолетнее, за которым догляд и догляд нужен? Не ровен час сама в ящик сыграешь, прости, конечно, тьфу-тьфу. А они там такие вещи — ох как придирчиво рассматривают.
— Думаешь, я такая дура и сама не понимаю этого? Но знаешь, что я тебе скажу? (Пахомова направила на старого друга яростный взгляд и дрожащий указательный палец) — Я этого так не оставлю, вот что я тебе скажу. Зубами загрызу за него. До последнего стоять буду.
Женщина обессилено выдохнула, потом похлопала товарища по костлявой коленке, и, показывая особую доверительность, назвала его по имени, что делала нечасто:
-Понимаешь, Яша… Он мне моего Лешку напомнил очень. Просто безумно похож. Не внешне только а… Характером, ты понимаешь? (Старик угрюмо кивнул) Вот и жесты и поведение – всё, всё… Не могу объяснить тебе. Как будто он вот таким образом ко мне вернулся. Меня даже иногда захлестывало что-то сегодня и хотелось его Лешенькой назвать. Благо и даже имена у них похожие…
Посидели еще, повздыхали опустошенно. Потом Яков грузно поднялся и молча направился к дверям. На пороге остановился и сказал негромко, открыто и прямо глядя Татьяне в глаза:
— Если какая помощь будет нужна – не стесняйся, сразу к нам. Деньгами, там, транспортом, еще чем — чем богаты, как говорится, тем и… — немного косноязычно закончил он уходя.
-Спасибо, родной, — сказала Татьяна в спину уходящему Ерофеичу. – Иди с Богом.
Женщина вернулась в комнату и, присев на краешек кровати, вглядывалась в спящего ребенка. Старомодный напольный светильник с цветным абажуром бросал зеленый отсвет на красивое подвижное лицо найденыша. Он спал беспокойно: дергался и всхлипывал во сне. Что-то бормотал задыхающимся жалобным голосом. Хозяйка нежно погладила его по щеке ладонью, отвыкшей от ласки.
-Спи, милый. Спи, мой хороший. Я с тобой. Я тебя не брошу.
Мальчик успокоился и задышал глубже и размереннее. Татьяна Трофимовна набросила на абажур старенькую шаль, села возле кровати в кресло и сидя задремала чутким сном матери. Готовая чуть что подскочить и помочь или утешить больного ребенка.
***
— Вот такая петрушка… — Яков Ерофеич закончил для своей жены пересказ злоключений соседского приемыша. Обильно приукрасив его собственными выводами и додуманными подробностями. Супруга внимала рассказу, открыв рот:
-Горюшко то какое, господи, воля твоя… Как же так?.. И что ж она, Татьяна-то, делать теперичча будет, а? Господи, спаси-сохрани, вот ведь лихо какое…
— Не знаю я, старушка, что будет, не могу сказать тебе. Но биться за него она будет люто, вот увидишь. А уж что выйдет из этого путного?.. Не берусь предсказать. Но если что и получится у нее — вот клянусь – я твоему богу свечку поставлю и батюшке благодарственный молебен закажу. И уверую, хоть и не верил я в него никогда…